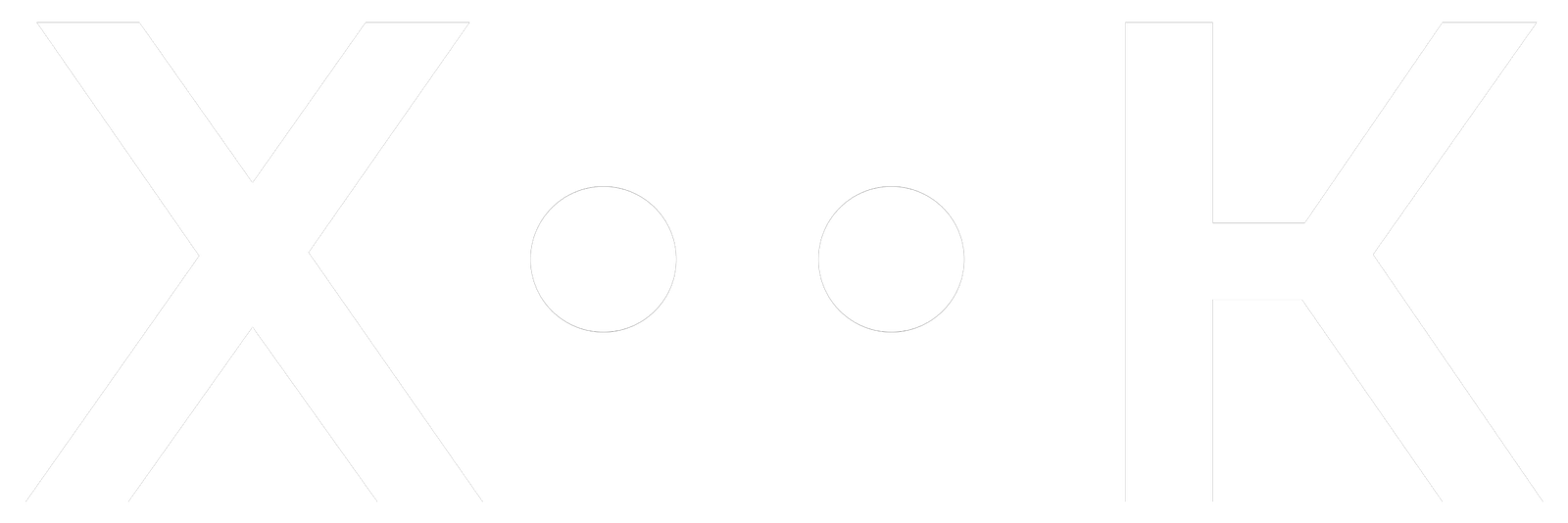Как развивались музеи в Центральной Азии: от коллекции птичьих чучел до моделей поездов. Часть 2
В апреле — июне этого года самоорганизация «Bahor / Весна» провела в Ташкенте серию бесплатных публичных лекций об истории и культуре Центральной Азии. С разрешения авторов и при содействии «Bahor / Весна» Хук публикует их конспекты.
Лекция Кристины Бекеновой, прошедшая в галерее 139 Documentary Center, была посвящена истории развития музеев в Центральной Азии с периода завоевания Российской империей и до наших дней. Рассматривая многочисленные примеры музеев и опираясь на архивные источники, Бекенова объясняла, кто, как и для чего создавал музеи и как они реагировали на происходившие в регионе изменения — социальные, политические, экономические и территориальные.
В первой части, которую можно прочитать тут, рассказывалось о первых музеях, возникавших на территории нынешних Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в XIX веке и раннесоветские годы.
Сегодня мы публикуем вторую часть лекции, в которой Кристина завершает рассказ о роли музеев в 1920-е и рассуждает о том, как можно применить деколониальную оптику к музеям периода независимости центральноазиатских республик. В конце текста — ответы на вопросы слушателей о том, как национализированные мечети и медресе конвертировались в музеи и в чем было отличие первых музеев Центральной Азии от европейских.

Кристина Бекенова
Исследовательница, PhD-студентка, пишет диссертацию по истории музеев Центральной Азии. Изучает музейное дело в IMT Высшей школе наук города Лукка в Италии. До этого была научным сотрудником в Назарбаев Университете в Казахстане. Училась в Казахстане и Китае.
Музей в 1920-е и его миссия
Нужно отметить один важный теоретический момент: музей — это не нейтральное пространство. Это не только инструмент создания определённого дискурса и производства знаний, но и дисциплинирующий актор. Когда Российская империя приходит в Центральную Азию, предполагается, что она несёт огромную цивилизаторскую миссию, «окультуривает» проживающие здесь туземные массы. Эта тенденция также заметна в советских музеях, где сильный упор делается на просветительской деятельности.
В риторике подчёркивается, например, что «при сплошной безграмотности мусульманского населения Средней Азии, при стойкости векового фанатизма и недоверия ко всему нам необходимо открывать больше музеев и привлекать в них местное население». Создаются инструкции, как вести себя в музее: например, в Кокандском музее инструкция гласит, что в музее нельзя грызть семечки, нельзя приходить туда с корзинами, узелками, велосипедами, нельзя нарушать тишину.
Посетителей музея из числа коренного населения сотрудники музея снисходительно характеризовали как наивных. Сохранились, например, заметки такого содержания: «Сегодня приходило очень много посетителей-мусульман, они радовались как дети, вопили и указывали пальцами на те или иные артефакты».
Ещё одна из тенденций советского периода — эмансипаторская роль, если говорить, например, о женщине. На заседаниях Туркомстариса обсуждается, нужно ли сделать вход в музей для туземной женщины бесплатным. В какой-то момент соглашаются на том, что вход для них будет бесплатным только в специально установленные дни — тогда же будут проводиться экскурсии от мусульманок-учительниц.
Здесь важно поговорить о том, был ли музей дискриминационным. Вопрос о том, для кого существует музей, встаёт и в 1920-е годы. Говорится о том, что мусульмане, приходя в музей, ничего не понимают. Одной из причин являлось то, что долгое время этикетки были только на русском языке, но в 1924-м начинают обсуждать их перевод на местные наречия — в основном это сартский, казахский/киргизский языки. А сегодня, например, мне попался конверт, в котором находились этикетки с текстом на двух языках: русском и узбекском (арабский шрифт).
Интересно, как сильно в этот период усиливается роль сторожа музея. Потому что это одна из тех позиций, на которые берут коренное население, в связи с тем, что не требуется много знаний и умений. Владея и русским, и своим национальным языком, сторож может объяснить местным посетителям, что выставлено в музее и что эти предметы означают. Таким образом, он становится единственным, кто, имея доступ к музейной экспозиции, выступает важным агентом передачи знаний.
Любопытно, как советские музеи учитывают особенности мест, где они работают. Так, например, в сводках посещаемости говорится: «Закончились полевые работы — и мы видим рост посещаемости». Музеи стараются открывать выставки и продлевать время работы в тот период, когда кочевое население, живущее вне городов, приезжает на базарные дни и может посетить музей. Также музеи были открыты по вечерам в период Рамадана. Музейные хранители наблюдали, что местное население заинтересовано в зоологических и военных коллекциях, и поэтому предлагали делать упор на развитие этих коллекций.
В этот же период появляются агитпоезда и красные юрты, передвижные музеи и выставки. Агитпоезда пускались по Среднеазиатской железной дороге, а красные юрты были популярны на территории Казахстана, в кочевых районах. Например, в переписках, касающихся школ, говорилось: «Мы не можем достичь высокого уровня образования и собрать всех учеников казахских аулов, потому что они кочуют. Давайте создадим кочевые школы-юрты». Красные юрты играли огромную роль в политпросвещении местного населения. Они также выполняли роль передвижной выставки, посвящённой социалистической революции. В 1982 году «Казахфильмом» был снят фильм «Красная юрта», рассказывающий о первых годах установления советской власти в Казахстане и об одной из таких агит-юрт.
Музей периода независимости
Мы переходим к музею периода независимости. Начну с того, что, когда в девяностые годы все пять республик получают независимость, происходит заметная реорганизация мест памяти — то есть пространств, имеющих сильную символическую значимость для региона. Конечно, в первую очередь это касается городских пространств: переименовываются площади и улицы, появляются новые памятники и архитектурные объекты.
Киргизский государственный исторический музей в Бишкеке (сегодня Национальный исторический музей Кыргызской Республики)
Создан в 1925 году. В течение своей истории музей переезжал несколько раз. Современное здание музея было построено советскими архитекторами по результатам конкурса в 1984 году к 60-летию со дня смерти Ленина и задумывалось как филиал музея имени Ленина. В этом же 1984 году на месте старого памятника Ленину (1948) была воздвигнута новая статуя вождя. Просуществовала она недолго, до 2003 года — что интересно, статуя застала и период независимости. Её демонтировали в 2003 году, но не утилизировали, а переместили в сквер с задней стороны музея, где она стоит до сих пор. В Кыргызстане есть те, кто этому рад (коммунистические силы ещё активны), и те, кто против памятника.
В 2003 году на месте статуи появляется памятник женщины-свободы (Эркиндык), которая держит верхнюю часть юрты — тюндук (вар.: тюндюк, тундук) на кыргызском языке (на казахском она называется «шанырак»). Памятник простоял до 2011 года как символ независимости, но вокруг него не утихали споры. Потому что, в частности, тюндук держит женщина — согласно традиции установки юрты, тюндук может ставить только мужчина. Женщина может ставить саму юрту (например, кереге — доски), но верхнюю часть ставит только мужчина. Кроме того, говорят, что женщина похожа на жену бывшего президента Акаева — и поэтому тем более статую нужно убрать.
В 2011 году перед музеем устанавливают памятник Манасу — герою кыргызского эпоса, а к его имени добавляется приставка «великодушный». «Манас великодушный» становится символом соединения и возрождения нации. Таким образом, создаётся новая идентичность государства и его столицы. В 2016 году музей был закрыт на масштабную реконструкцию, с февраля 2022 года он вновь открыт к посещению.
Исторический музей в Бишкеке.
Фото 1. Статуя Ленина; Фото 2. Статуя Эркиндик; Фото 3. Статуя Манаса. © Wiki Creative Commons
Южно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей в Шымкенте
Был открыт в Шымкенте в 1920 году. В 1977-м переехал в здание, которое было изначально построено не как музей, а как магазин молочных товаров. В 2014 году в связи с подготовкой к празднованию важной даты — 550-летия Казахского ханства многие учреждения, имеющие символическое значение, — театр, библиотека, местный акимат, управление культуры — переезжают в новые пространства. Перевозят и коллекции историко-краеведческого музея, однако многие музейщики критикуют новое здание. Несмотря на то, что оно очень просторное, там не предусмотрены технические помещения, например, для хранения или реставрации экспонатов. Монументальность очень характерна для таких символических зданий.

Областной историко-краеведческий музей Шымкента (здание 1977-2014). Источник: Агентство Фергана
В 2014 году в связи с подготовкой к празднованию важной даты — 550-летия Казахского ханства многие учреждения, имеющие символическое значение, — театр, библиотека, местный акимат, управление культуры — переезжают в новые пространства. Перевозят и коллекции историко-краеведческого музея, однако многие музейщики критикуют новое здание. Несмотря на то, что оно очень просторное, там не предусмотрены технические помещения, например, для хранения или реставрации экспонатов. Монументальность очень характерна для таких символических зданий.

Областной историко-краеведческий музей Шымкента (здание после 2014). © Wikimapia
Национальный музей Геок Тепе (сегодня Гёкдепе)
В 1991 году, 12 января, в Туркменистане учреждается новый праздник — День поминовения умерших за родину. В 1995 году в городе Гёкдепе (до 1993 года — Георг Тепе) открывается мечеть Сапармурата, а в 2009-м — Национальный музей. Таким образом, получается архитектурный ансамбль, включающий музей, мечеть и место для почтения памяти — 12 января совершается обряд «садака» в честь памяти погибших при сражении.

Национальный музей Гёкдепе (2009) © Wikimapia
Что интересно, в музее часть экспонатов из дореволюционного музея используется для создания нового нарратива о боевой славе и храбрости туркмен, погибших за родину. Мы видим те же самые костюмы и фотографии, но помещённые в совершенно другой контекст.
Государственный музей истории Узбекистана в Ташкенте
Государственный музей истории Узбекистана в Ташкенте ведёт свою историю с 1876 года — в этом году он возник при химической лаборатории и школе шелководства. Что меня поразило, когда я зашла в этот музей, так это заметная неравномерность его экспозиции. Большой упор сделан на древнюю историю и Средневековье, в то время как имперский и советский периоды сжаты до одного зала. Интересно, почему так происходит. Можно предположить, что происходит сознательное смешение имперского и советского опытов, со всеми плюсами и минусами, и стирается, удаляется вся история этого периода.

Государственный музей истории Узбекистана (фотография автора, 03.04.2022)
Одним из признаков колониальности знания является то, что государственные музеи региона, пытаясь заявить о новой несоветской идентичности, продолжают использовать тот же самый советский инструментарий — просто стирается целый исторический период из памяти, история делится на плохое прошлое и хорошее настоящее/будущее, отсутствие критического подхода к анализу монолитности нации. Именно это происходит в Государственном музее истории Узбекистана в Ташкенте (как и в других музеях региона). Такая же тенденция прослеживается и в Музее истории Ташкента, который открылся совсем недавно. История селективна и снова использована в целях легитимации режима.
Выводы
Если мы хотим применить к музею постколониальную кальку, мы в первую очередь должны задуматься о том, как, для чего, кем и для кого музей был создан, какие нарративы и почему там создаются и воспроизводятся. Потому что музей — инструмент, производящий знания в связке «знания — власть».
После 1991 года развитие музеев встроено в национальную идеологическую рамку. История показана через призму становления «титульной» нации. Именно поэтому нам становится неуютно, когда мы приходим в музей: мы не можем отождествить себя с историей, рассказанной в нём. Монолитность, стабильность, единогласие — всё это признаки скрытых противоречий и некритичного подхода. Происходит отрицание прошлого, создаётся континуум, в котором республики перепрыгивают из древности и Средневековья сразу в независимость, а что было между — не оговаривается.
Подход к советскому прошлому в центральноазиатских музеях достаточно различен. Если в Узбекистане советский период характеризуется как колониальный, то в Казахстане, например, этот термин пока обходят. Не часто в исследованиях упоминают, что Казахстан был колонией Российской империи. Сейчас, естественно, этого становится больше. Например, в Назарбаев Университете ведут курс по постколониальным исследованиям, пытаясь применить эту оптику к Казахстану.
Но в музеях это не обсуждается. Например, в Центральном государственном музее в Алматы досоветское прошлое дано достаточно обтекаемо (говорится о «вхождении казахских земель в состав Российской империи»). Период массовых депортаций показан через призму народов, населяющих Казахстан, и представляет собой один из источников многонациональности страны («c XIХ по XX в. шёл процесс переселения (…), кроме того, в результате большевистского переворота, процесса коллективизации, массовых депортаций и репрессий народов, а также прибытия эвакуированных во время Великой Отечественной войны и периода кампании по освоению целинных и залежных земель в Казахстане резко увеличился как национальный состав, так и количество населения»).
В организации экспозиций используются одни и те же инструменты, сохраняется прежнее краеведческое деление на отделы, принятое в ранний советский период: природа, история, общество. До сих пор существуют и сети краеведческих музеев — когда есть один центральный или областной музей, ответственный за раздачу всех дубликатов и создание музеев в периферийных зонах. Лучшие экспонаты собираются в главном музее, а все остальные коллекции распределяются между периферийными музеями. Например, во время переноса столицы Казахстана из Алматы в Астану (1997—1998) происходила борьба за экспонаты между музеями Астаны и Алматы. Тогда алматинцы отстояли свою коллекцию, чем очень гордятся.
Другой пример отсутствия переосмысления сложившихся нарративов — история завоевания Туркестана как она рассказана в Ташкентском музее: «Первая и вторая экспансии относятся к Бековичу-Черкасскому, оккупированы кишлаки, после штурмов захвачен Ташкент. Объект нападения агрессоров — Хива и Бухара. В силу военного превосходства завоевателей Ташкент оказался в тисках колониального гнёта». Используется литография Хивинского похода авторства Николая Каразина.
Это та же самая риторика о завоевании Туркестана, которая использовалась на выставке 1872 года, когда создавался военно-исторический отдел на Политехнической выставке в Москве, а также во время сельскохозяйственной выставки 1890-го в Ташкенте. Используются те же самые фотографии, которые теперь рассказывают совершенно другую историю. Можно ли использовать те же самые инструменты, если мы хотим деколонизировать музейное пространство? Это очень интересный вопрос, требующий серьёзных размышлений.
Вопросы и ответы
Олег Карпов: Вы не осветили большой период — почти сто лет. Это было сделано умышленно или же вы пока не смогли освоить этот материал?
Кристина Бекенова: Я работаю сейчас с фондами, затрагивающими досоветский период и первые годы установления советской власти, и именно поэтому в презентации советский период дан достаточно бегло и упущена история музеев в 1930-е — 1980-е годы. Моё исследование будет посвящено истории центральноазиатских музеев с момента их зарождения и, скорее всего, до начала Второй мировой войны либо до образования национальных республик в 1920-е — 1930-е годы.
О.К.: Нашли ли вы какую-то информацию о финансировании музеев? Выделялись ли музеям средства на содержание, на закупку коллекций?
К. Б.: Если говорить о времени, когда музеи были в ведении научных сообществ, например, Русского географического общества, Архивной комиссии, как в Оренбурге, или статистических комитетов, как в Семипалатинске, то пополнение естественно-исторических коллекций происходило за счёт экспедиций. Бюджет был сильно лимитирован: две тысячи рублей выделялось на всю работу статистического комитета. Дополнительные деньги не ассигновались. Музеи сокращали канцелярские и другие расходы, участвовали в экспедициях других учёных сообществ, чтобы собрать свои коллекции.
В это же время наблюдается много пожертвований, музей активно обращается к населению через газету. В советский период финансирование шло через госбюджет, на сбор экспонатов нужно было отвоёвывать деньги, писать письма. И поскольку приходило много жертвователей с предложением купить их коллекции, создавались комиссии для их оценки, после чего уже выпрашивались деньги.
О. К.: Общая тенденция была такая, что покупка коллекции — это исключительный случай?
К. Б.: Да, я соглашусь с этим. Покупка частных коллекций музеем обсуждалась, например, с Туркестанским генерал-губернатором. В первые годы после революции в письмах периода Гражданской войны, когда на антикварном рынке появляются очень интересные коллекции, часто можно встретить сожаления музейных работников из-за нехватки денежных средств на их приобретение.
О. К.: Эти данные встречаются всё время — и до революции, и после, и сейчас. Постоянно говорят о том, что уходят какие-то коллекции, а музей не может их купить, может только принять в дар.
К. Б.: Отпускаются небольшие средства: например, в Туркестанском музее, поскольку у него был статус центрального, было финансирование. Но в этот период происходила девальвация валюты, и когда шло обсуждение покупки коллекции, указывалось, например, что её будут покупать в рублях 1921 года. И если в смете было заложено, например, 500 рублей на покупку коллекции, к моменту утверждения сметы этих денег могло уже совершенно не хватать.
Петр Жеребцов: Мой вопрос связан не столько с финансированием, сколько с административной частью работы музеев до революции. В последние два десятилетия XIX века мы видим по всей Российской империи, не только в Центральной Азии, что научные общества учреждали музеи. Я из Сибири, и, например, в Красноярске, Иркутске, Омске музеи учреждались не через те административные институты, что знакомы нам сегодня, а, например, через крупные научные общества. Уже присутствовала идея народного просвещения (хотя так начали говорить только в двадцатые годы), как и представление о публичности и доступности знания: в то же время появляются народные дома, государственные школы. Мне интересно, как административно управлялись музеи Центральной Азии: это было на местах или из центра?
К. Б.: Если говорить об административной части, то, например, в Семипалатинске управление музеем происходило в разное время через Семипалатинский статистический комитет, Западно-Сибирское отделение Русского географического общества (ЗСОРГО), Общество попечения народного образования, Семипалатинское отделение ЗСОРГО. После революции управление музеями шло через отдел Народного комиссариата по образованию. В Туркестане, как правило, создание музеев, несмотря на то, что было инициировано местными научными силами, утверждалось либо Туркестанским генерал-губернатором, либо военным губернатором области, через них музеи получали одобрение на приобретение или строительство здания. После образования Туркестанской АССР, с утверждением в 1921 году положения Туркомстариса, управление музейным делом шло через этот комитет. Если раньше музеи принадлежали научным сообществам и финансирование и административное управление шло через них, то в связи с созданием Туркомстариса началось централизованное управление всеми музеями. Причём Туркомстарис имел право утверждать научных сотрудников музеев: их выбирал музей, но утверждал Туркомстарис.
П. Ж.: Как часто музеи обменивались выставками и делали ли временные экспозиции в дореволюционное время и в двадцатые годы?
К. Б.: Я не нашла информации о том, чтобы они обменивались временными выставками, но происходил постоянный обмен дубликатами. Не только на территории Центральной Азии, но и с российскими институтами, а также, например, с музеями Германии и Великобритании. Кроме того, как я говорила, были популярны сельскохозяйственные и промышленные выставки — они проходили как в Туркестане, так и в России: в Москве, Нижнем Новгороде. Среднеазиатские экспонаты выезжали на выставки в Вену, Париж, в Америку.
Что интересно, после таких больших выставок, как в Париже, многие частные владельцы предоставляемых для них коллекций писали, что больше не хотят участвовать в таких выставках, потому что экспонаты им не возвращаются. Кроме того, в дореволюционный период сбор экспонатов не был централизован: каждая губерния, уезд или сам владелец могли отказаться предоставлять предметы. И были случаи, когда, например, от Семиреченской области не было участников, потому что никто не захотел участвовать.
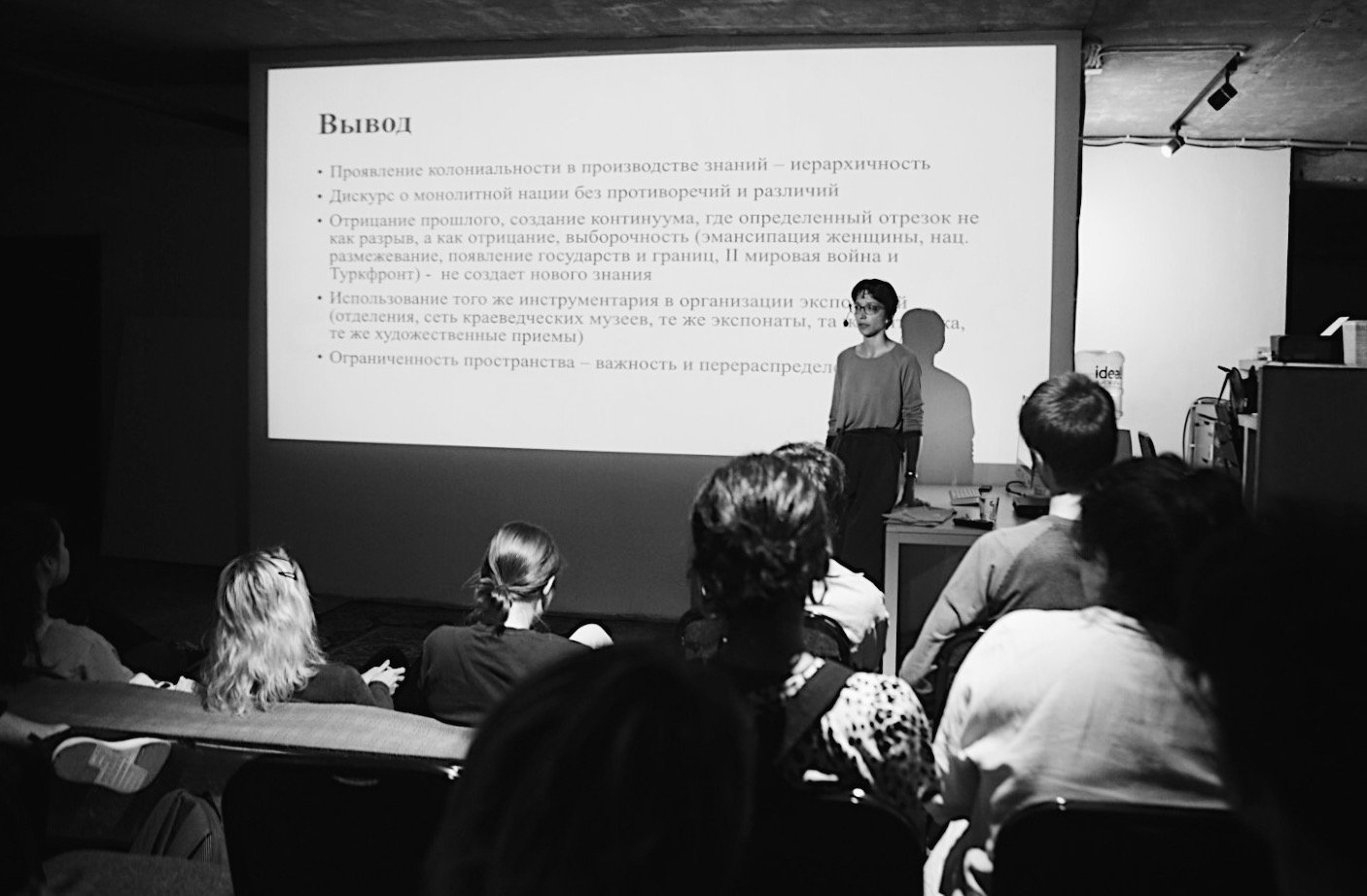
Анна Пронина: После того как были национализированы все мечети, медресе, цитадели, дворцы, насколько мне известно по музейному строительству в центральной России, популярной практикой была конвертация подобных объектов в музеи, создание коллекций на базе того, что в них было. Это касалось как монастырей, так и усадеб, и отдельно стоящих церквей. С одной стороны, это было способом хотя бы отчасти сохранить их от разграбления и изъятия предметов, с другой — способом символического захвата места, чтобы, например, рассказывать в чьей-то частной усадьбе об эксплуатации крестьян. Интересно, как это происходило в Центральной Азии, что делали с мечетями?
К. Б.: Например, в городе Туркестане (нынешний Казахстан) был создан музей религии в мечети Ходжи Ахмеда Яссави — он был национализирован и заполнен экспонатами. Музей Самарканда был временно перемещён в медресе Улугбека. Всем известный пример: краеведческий музей Коканда находится во дворце Худояр-хана, это произошло в 1925 году. В 1922 году началось создание Бухарского музея, размещение которого предполагалось либо в летней резиденции Бухарского эмира Ситораи Мохи-хоса, либо в медресе Кукельдаш. Акмолинский музей какое-то время в 1930-е годы размещался в мечети. Если говорить о церквях, можно вспомнить Алматинский музей, чья коллекция долгое время находилась в Вознесенском соборе; Уральский музей также временно находился в церкви. Для сохранения зданий от разрушения они передавались по решению Туркомстариса не только под музейные цели, но и, например, для нужд других организаций (Каганский эмирский дворец был передан железнодорожному отделу).
А. Б.: Когда вы говорили о проявлении колониальности внутри постоянных экспозиций современных музеев, я вспомнила про сибирские музеи, где нередко периоды Российской империи и Советского союза схлопываются до относительно небольших частей, в то время как истории, связанные с коренными народами или археологическими раскопками, занимают гораздо большую часть площади. И я в этом не вижу критического жеста — «давайте мы будем больше рассказывать про одно и больше про другое». Когда вы говорили о колониальности такого музея, вы имели в виду самоколониальность? Или это внешняя колониальность?
К. Б.: То, что в современном музее советский период убирается, сужается или рассматривается под другой линзой, я вижу логичным результатом независимости. Думаю, сейчас период переосмысления, поиска идентичности, корней, и позже советская история будет заново осмыслена, потому что невозможно уйти от целого отрезка времени.
Говоря о колониальности, я говорила больше о том, что после обретения независимости Советского Союза с его тоталитарной идеологией больше нет, и появляется возможность создать новый музей, новый рассказ об истории. Но сохраняется тот же инструментарий, те же подходы к использованию экспозиционного материала, не делается попытки по-новому осмыслить прошлое или поставить под сомнение сложившееся понимание нации, границ, прогресса, национальной культуры. Проявляются травмы общества через соперничество между республиками за уникальность культурного наследия.
М. С.: Мы знаем генеалогию европейского музея — она напрямую связана с колониальностью и необходимостью где-то хранить наворованные артефакты, систематизировать их, удерживать колониальную идеологическую силу. В этом отношении музей на собственно колонизированной территории представляет собой, на мой взгляд, любопытный феномен, поскольку он реализует эту колониальную тематику иначе. Интересно, насколько была подготовлена почва для возникновения музея в Центральной Азии? Были ли до колонизации какие-то собрания, которые тоже отвечали музейному, архивному импульсу? Или же это была абсолютно навязанная извне практика, пришедшая с колониальным захватом территории? Насколько значима разница между европейским музеем, где экспонаты, представляющие собой исключительно украденные артефакты, деконтекстуализированы, и музеем Центральной Азии, где среди зрителей могут оказаться их бывшие владельцы?
К. Б.: Говоря о музейной практике, важно определиться, что мы подразумеваем под музеем. Учреждения, которые что-то систематизируют и коллекционируют, открыты для публики, для наслаждения, обучения, просвещения? В этом смысле в Центральной Азии музея не было. Но была практика коллекционирования.
Например, у бухарского и хивинского ханов были «сокровищницы», комнаты с полученными ими подарками, они демонстрировались послам и другим гостям. Или, например, в Букеевском ханстве Джангир-Хан, будучи приближенным к российским чиновникам, в 1834 году, после путешествия в Москву и Санкт-Петербург, организовал отдельную ставку — «оружейную комнату», где были представлены его оружие и конская сбруя. Там же он хранил документ, подтверждающий, что его отец был ханом.
Чабров, например, начинает свою рукопись «История музейного дела в Средней Азии (дореволюционный период)» с практик коллекционирования, которые были у местного населения, в основном интересовавшегося собиранием оружия, нумизматикой и манускриптами. Там же он говорит, что создавались своеобразные «мемориальные музеи», к которым он отнёс, например, мавзолей Темура («на могилу были положены его одежды, по стенам были развешаны предметы его вооружения и утвари»), но это было, скорее всего, единичными случаями, а не устоявшейся практикой.
В то же время, говоря о развитии музейного дела в регионе, я бы хотела отметить, что создание музеев отвечало логике развития музеев в российской провинции — они создавались за счёт самомобилизации учёных (музеи при статистическом комитете, отделениях Географического общества, археологических кружках) и личной инициативы учителей-энтузиастов (музей при Уральском или Оренбургском войсковом реальном училище). Но я считаю, что всё-таки это было связано с колонизаторской политикой империи прежде всего.
Что касается вывоза предметов, то здесь, конечно, никакого учёта не велось. Очень многие музейные экспонаты вывозились в Санкт-Петербург и оставались там, формируя коллекции Эрмитажа или Русского этнографического музея. Уже в 1925—1926 годах Средазкомстарис поднимает вопрос перед УзНКП и Наркоминдел СССР о том, что с территории Узбекистана было вывезено огромное количество предметов музейного значения. И хотя всё вернуть было невозможно, комитет просил о возвращении старинных рукописей, имеющих большую историческую ценность для УзССР, старой майоликовой надписи из мавзолея Гур Эмир и резной двери оттуда же, вывезенных в дореволюционное время. В Казахстане был составлен список из 243 наиболее ценных исторических предметов. Я думаю, что вопрос о вывезенных артефактах и их возвращении будет однозначно подниматься.