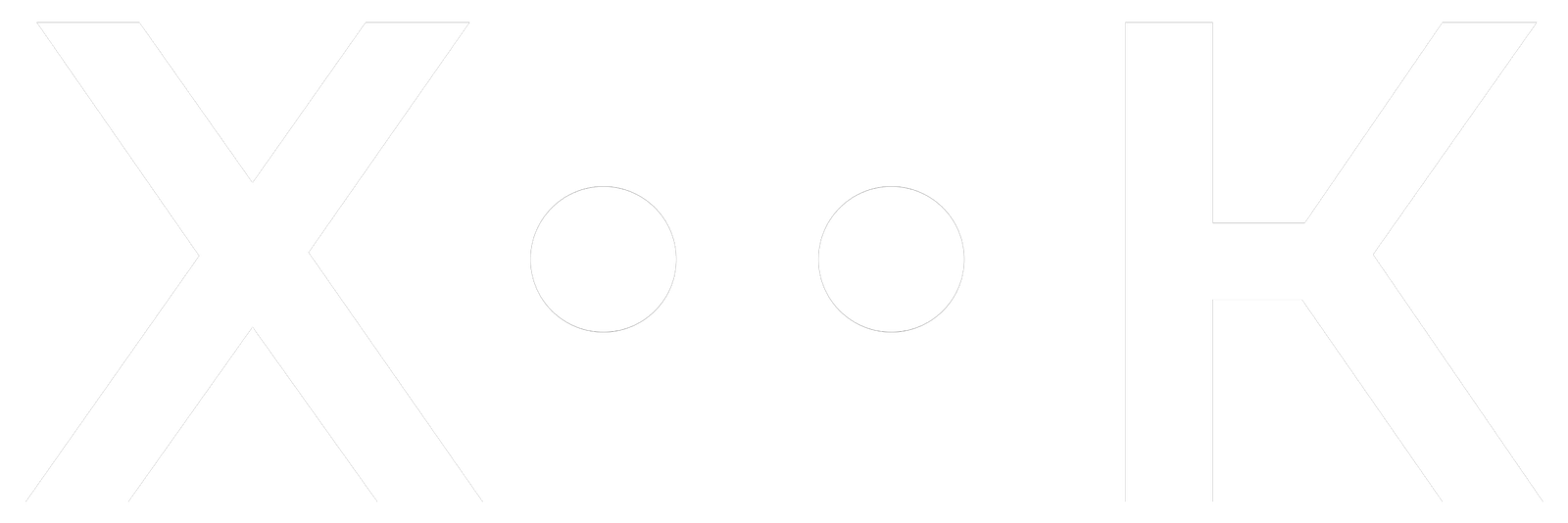Насколько ты готов впустить мрак в своё творчество: Интервью с Кириллом Ивановым, основателем и солистом группы СБПЧ
13 ноября в рамках тура «Холодный день» группа «Самое Большое Простое Число» даст концерт в столичном баре VM. Хук поговорил с солистом Кириллом Ивановым о том, как война в Украине повлияла на его творчество, как теперь воспринимается их музыка и ждать ли на концерте песен из нового альбома.
Билеты нужно приобретать в баре VM.
— Можно ли назвать ваш концертный тур «антивоенным»? В апреле в интервью для The Flow вы говорили о своем отношении к войне и что вы не представляете, как будете теперь выступать.
— Конечно, на каждом из концертов мы говорим про войну. И большинство песен, которые мы исполняем, люди начинают воспринимать по-другому и слушать по-другому. Я не вижу возможности и смысла не говорить про войну. Мне кажется, это очень важно. Странно, страшно делать вид, что ничего не происходит, и не замечать этого. Мы всё время про это думаем и переживаем. Это самые мягкие слова, которые можно подобрать, чтобы описать происходящее.
«Антивоенные» — это, наверное, очень громкое слово для наших довольно камерных концертов. Не знаю, как для слушателей, но для меня они имеют некоторые терапевтические свойства. Потому что вообще концерты — это такое социальное событие, куда ты приходишь, в том числе для того, чтобы увидеть, что ты не один. Что вокруг тебя ещё есть люди, которые разделяют твои взгляды. Это успокаивает.
— Прошло уже больше полугода с начала войны в Украине. Что-то изменилось для вас за это время, как вы ощущаете всё, что происходит, несёте ли какой-то посыл своим творчеством?
— С самого начала я воспринимал происходящее как полный кромешный ужас, жуть, из которой надо будет десятилетиями выбираться всем, кто как-то к этому причастен.
Скорее, наверное, поражает то, что ты не устаёшь поражаться. И общему безумию, и частным проявлениям сумасшествия, ужаса, трагедии. Ну и ты бесконечно испытываешь ощущение того, что ты каким-то образом тоже к этому причастен. К тому ужасу, который твоя страна творит, напав на Украину, вторгнувшись в неё.
Наверное, были какие-то вещи, в которые я наивно верил. Ожидал другой реакции от своих сограждан и в этом смысле был жестоко обманут. И это продолжает и пугать, и завораживать.
Я был уверен, что, например в марте, когда из Украины в Россию отправятся тела убитых солдат, это вызовет какую-то мощную волну осознания происходящего ужаса. И, соответственно, после этого я ожидал протеста и возмущения. Я недавно смотрел фильм английского документалиста Адама Кёртиса «Trauma Zone». Он про жизнь в России времён начала перестройки, распада Союза и девяностых. Значимая его часть посвящена войне в Чечне, и там есть довольно жуткие кадры: когда матери ищут своих детей по всей Чечне, зачастую не живых, а хотя бы останки, чтобы их похоронить. И я думал, что сейчас будет похожее материнское антивоенное движение.
Потом у меня были какие-то мысли по поводу того, как будут люди реагировать на начавшуюся мобилизацию. Как люди будут реагировать много на что: на военные ужасы, на обстрелы домов в Украине, на иранские дроны, которые целенаправленно прилетают в жилые дома. И тут какие-то мои надежды и ожидания тоже были обмануты.
В остальном это довольно неизменяемое состояние ужаса, возмущения. Я стал испытывать разные чувства, которые не хотел бы испытывать вообще. Ничего не могу с собой поделать.
В первую очередь, конечно, невероятную ненависть к убийцам, палачам, к руководству нашей страны. И, конечно же, к пропагандистам. Не было никаких у меня иллюзий или сомнений, но то, что они творят, говорят и к чему это приводит, — всё это просто превосходит любые ожидания.
— Вы сейчас говорили о том, насколько для вас это тяжёлая ситуация и как вы пропускаете её через себя. А как это вами переживается как художником? Часто трагедии, будь то личные или глобальные, становятся толчком для какого-то «перерождения» или формирования нового языка в искусстве. Правдив ли тезис о том, что трагедия — это ужас для людей и реальности, но при этом может питать искусство. Либо же творчество в период ужасов играет больше в терапевтический эффект? Как вы рефлексируете на эту тему как художник?
— Я думаю, что это только частично правильная идея о том, что трагические события как в частной жизни, так и глобальные, — это хорошее топливо для искусства. Даже если это так, то на мой взгляд никакое искусство этого не стоит. И у меня на самом деле раньше не было каких-то проблем и мыслей о том, что мне нечего из себя достать.
В этом смысле СБПЧ — продуктивная группа. У нас всегда были идеи, мы знали, чего хотим. Конечно, нельзя отделить твою собственную жизнь от того, чем ты занимаешься как автор. Мы не были никогда группой, которая делает какие-то прямолинейные вещи. Мы старались этого избегать всегда, чтобы не было такого «утром в газете — вечером в куплете». Нам это не интересно.
Мы сейчас закончили новый альбом [“Ничего больше нет” – прим. ред.], и он, надеюсь, выйдет в начале ноября. Половина работы над ним была закончена до начала войны: были придуманы тексты, мелодии, даже частично он был уже записан. И большая часть работы оставалась уже студийной, связанной с аранжировкой и сведением материала.
Но сейчас эти песни, конечно, слушаются совсем иначе. Что интересно, я никогда не верил в то, что есть какое-то парадоксальное предвидение. Но я думаю, что, если ты занимаешься каким-то искусством, у тебя просто больше обнажены нервы и ты более чувствителен и восприимчив к тому, что происходит вокруг. Поэтому в новом альбоме, мне кажется, очень много предчувствия войны и какой-то трагедии и ужаса. Но это только с одной стороны. С другой, для меня работа над этим альбомом во время войны была очень терапевтической — она была чем-то очень понятным и точным во времена неопределённости в разрушающемся на глазах мире. Это очень меня успокаивало. Надеюсь, что этот альбом ещё кому-то сослужит такую службу.
Мы обязательно сыграем что-нибудь из нового альбома на концерте в Ташкенте.
— Ташкентское выступление пройдёт на сцене бара. Это довольно камерный концерт. С чем это связано и всегда ли сами предпочитаете такой формат?
— Сейчас любой концерт бесценен. Хоть в лесу, хоть на кухне, хоть на парковке. Я думаю, мы выступаем в баре, потому что ровно столько у нас в Ташкенте сейчас слушателей. Мне кажется, такие камерные концерты, во всяком случае для нас, сейчас самый правильный вариант. Всё большое, массивное, устроенное с размахом сегодня воспринимается как что-то тяжёлое, имперское, от которого хочется максимально дистанцироваться.
— Надолго ли вы задержитесь в Ташкенте и бывали ли раньше в Узбекистане?
— В это раз, к сожалению, не задержимся. Но я когда-то был в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. И просто влюбился в Бухару.
Это было 15 лет назад. Я путешествовал один и случайно попал в Узбекистан. Должен был улететь в другую страну, но у меня заканчивался загранпаспорт, и меня туда не впустили. Я в то время жил в Петербурге, но улетать должен был из Москвы. И вот приехал на площадь Трёх вокзалов, чтобы купить обратный билет в Петербург. На Ленинградском вокзале не работал обменник, и мне пришлось пройти к Казанскому вокзалу. А там я увидел, что отходит несколько поездов в сторону Центральной Азии. И купил себе билет до Ташкента на поезд, который шёл трое суток. Приехал в этот город, ничего не зная про Узбекистан и вообще будучи к нему не готовым.
И постепенно, гуляя по Ташкенту, познакомился с разными людьми. Какой-то дядька, который гулял со мной по городу, рассказывал всякие небылицы. Однажды мы с ним ехали на маршрутке, и он внезапно выскочил из неё и говорит мне: «Вот, смотри, это мой сын идёт. Я три месяца его не видел». И потом мы уже с этим «сыном» гуляли, и я их водил в ресторан. Мне кажется, что весь этот перформанс был устроен только ради того, чтобы я отвёл их в ресторан. Но мне было не важно, так как всё это было очень интересно.
Затем я поехал в Самарканд и там познакомился с профессиональным игроком в бридж. Он проводил экскурсии для голландцев. Какое-то время я провёл с ним и группой пожилых голландцев. Затем познакомился с каким-то бандитом, который говорил мне, что держит целый район в Ташкенте и если я туда приеду, то мне «подгонят» Daewoo Nexia. С ним мы пили какую-то палёную водку.
Из Самарканда мы поехали в Бухару. У меня было ощущение постоянной нереальности происходящего, словно я оказался в фильме. Всё время хотелось прикоснуться к стенам этого города, настолько фантастически они выглядели.
А потом у меня кончились деньги, и мои друзья прислали мне денег из Петербурга на билет домой. В общей сложности я пробыл в Узбекистане недели три, и это стало одним из моих любимейших приключений.
— Возвращаясь к тому, что происходит в последние семь месяцев, мы заметили, что с начала войны к нам стало приезжать очень много российских артистов и групп, которых трудно до этого было представить на узбекской сцене. И у многих людей возникает ощущение, что Узбекистан — это такой запасной аэродром для российских исполнителей, у которых до войны были концерты и в России, и в Украине, и за рубежом. А теперь, когда большинство музыкантов, которые высказались против войны, не могут выступать в России, вспомнили, что есть Ташкент, в котором их очень любят и всегда ждали. Задумывались ли вы об этом? И если есть возможность представить, что никакой войны нет, а СБПЧ приехали в Узбекистан?
— Я думаю, что такое мнение справедливо. Но есть и другой момент — организационный. Обычно когда музыкант или группа становятся более известными, их начинают приглашать куда-то, об этом договариваются менеджеры. Концерты в Москве, Петербурге или Минске всегда самые выгодные.
Но мы никогда не отказывались и от менее прибыльных историй, зачастую ездили на концерты, которые нам не приносили никаких денег, и были, скорее, «за идею». Например, если в городе есть даже человек 50, которые нас любят, но у них нет больше другой возможности нас услышать вживую.
У нас просто никогда не было запросов из Узбекистана, вот и всё. Не было такого, чтобы нас звали в Узбекистан, а мы сказали, что слишком крутые.
С другой стороны, конечно, после того как началась война, у нас освободилось куча времени из-за того, что отменились концерты в России. И мы стали сами искать возможности для выступлений в других странах. И нашли.
— А известно ли вам что-то о музыкальной сфере Узбекистана? Если бы у вас была возможность записать что-то с местными авторами, вы бы это сделали? Раньше у вас были коллаборации с артистами из Кейптауна, когда вы ездили в ЮАР. Есть ли планы сотрудничать ещё с музыкантами из других стран?
— С современной музыкальной сценой Узбекистана я вообще не знаком, но немного слушал народную музыку. Есть разные лейблы, которые собирают национальную музыку разных стран, и я время от времени слушаю такие альбомы, но не более.
Мне трудно ответить на вопрос, могу ли я записать что-то совместное с артистами, которых не знаю. С ЮАР другой случай, так как я давний поклонник африканской музыки и очень много её слушал.
— А если говорить о других форматах сотрудничества? Например, недавно в Ташкент прилетал Александр Гудков, который, насколько я знаю, часто помогал и вам, снимался у вас в клипах. Он снимал здесь рекламу для своего проекта и остался в восторге от работы местных продакшенов. Хотели бы вы посотрудничать с кем-то из Узбекистана, может быть, снять что-то?
— Я бы хотел посотрудничать с какими-то талантливыми узбекскими режиссёрами. Всё время пытаюсь найти новые таланты. Мне нравится подталкивать людей к тому, чтобы они становились режиссёрами. Клип — возможность по-новому увидеть песню. Просто сейчас я не очень понимаю, какими должны быть клипы, как их снимать и для чего они вообще нужны. Вот и всё.
— Многие артисты, которые осуждают войну, как и вы, ощущают некую потерянность, непонимание, что можно снимать, о чём можно говорить в творчестве сейчас. Многие спрашивают себя: стоит ли оно того? Можно ли заниматься искусством, когда умирают люди? Не являются ли концерты, грубо говоря, «пляской на костях»? Вы задаёте себе подобные вопросы?
— Конечно, это меня занимает. Я спрашиваю себя, насколько уместны сейчас выступления, какими должны быть концерты и что мы будем играть.
С одной стороны, меня волнует, уместно ли, когда умирают невинные люди, миллионы людей лишены домов и живут в ужасных условиях, выступать с концертами представителю страны-агрессора, какой бы ни была твоя позиция.
А с другой стороны, насколько ты готов пустить этот мрак в своё творчество. Насколько оно должно быть ангажированным, изолированным или, наоборот, связанным с сегодняшним днём. А тогда не превращается ли это в пляску на костях, потому что ты пользуешься ситуацией, чтобы продавать свои чувства и песни? Это очень сложный комок переживаний, и наши концерты сейчас выстроены так, чтобы говорить искренне и услышать песни по-новому. У меня миллионы сомнений, но я знаю, что есть люди, которых наши песни поддерживают.
Я знаю, что не хочу посвящать жизнь борьбе против Путина, мне это не интересно. В идеальном мире я бы не хотел знать ничего про этих отморозков, ведущих войну, и уж тем более думать про них. Но на этой шкале нужно найти какую-то точку, где ты будешь чувствовать себя более-менее адекватно по отношению к самому себе. И это непросто.
Я наивно полагаю, что если моя музыка как-то поддержала меня, то, возможно, и другие люди в ней что-то найдут.