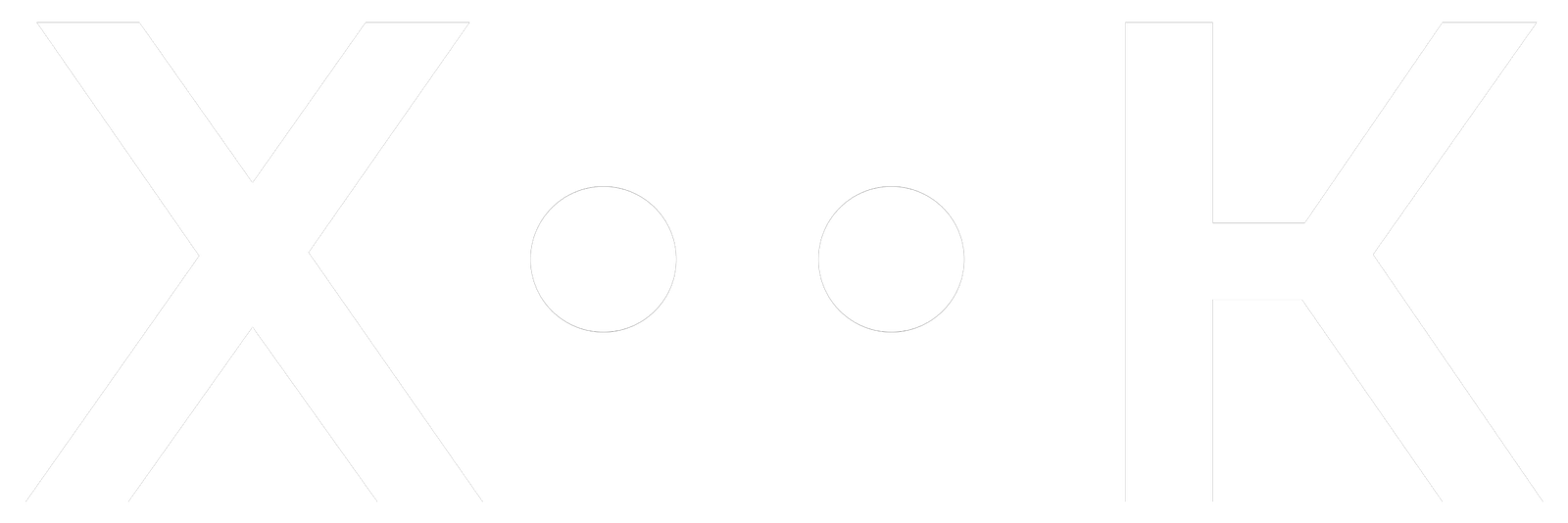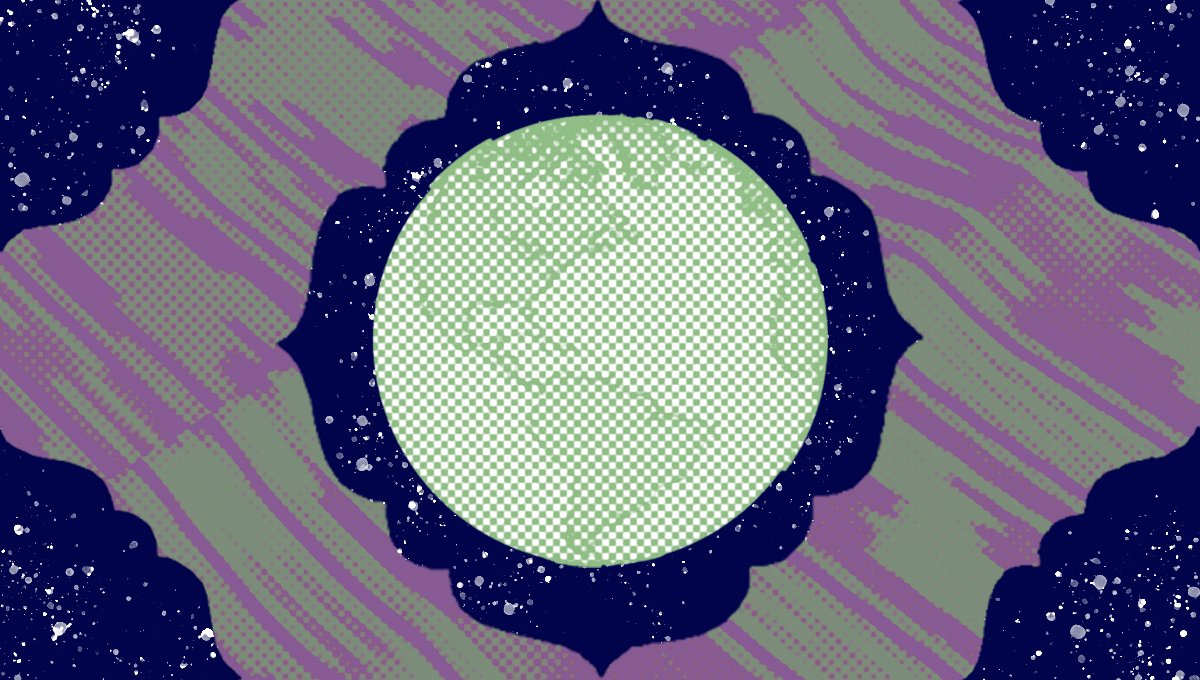Культурный образ Узбекистана: кто создаёт современное искусство и каким его видят за пределами страны
Древние медресе, миниатюры, поэма о Фархаде и Ширин — всё это ярчайшие детали культуры и искусства Узбекистана, но сегодня к ним добавились и другие. Теперь работы узбекских художников, фотографов и режиссёров известны по всему миру: рассказываем, что происходит в сфере и на что стоит обратить внимание.
Из чего состоял культурный образ Узбекистана и что о нём можно сказать сегодня
Понятие «культурного образа» очень сложное. Чаще всего это набор стереотипов, который будет разным в зависимости от социальной группы или географической локации. Другие его компоненты: меняющиеся тренды в культурной и арт-среде, различные подходы совсем разных групп художников и кураторов.
Помочь нам разобраться в этом мы пригласили основателя 139 Documentary Center Тимура Карпова, активисток коллектива Qizlar и младшую кураторку павильона Uzbek Design на London Design Biennale Алсу Ахметзянову.

Тимур Карпов
основатель галереи 139 Documentary Center, документалист
— Из чего, по твоему мнению, формируется культурный образ Узбекистана?
— Культурный образ — это не что-то статичное, это что-то всё время движущееся, растущее, меняющееся, тем более сейчас. Если говорить о культуре, которая существует в стране, по моему мнению, основа формируется из следующих элементов: плова, чапана, хан-атласа, Самарканда и Бухары, хлопка. Потому что это экзотические стереотипы про Узбекистан. Помимо этого назвать что-то сложно.


Алсу Ахметзянова
арт-менеджер, арт-блогер и младшая кураторка Uzbek Design Pavilion на London Design Biennale
— Как менялся этот образ с годами и что влияло на этот процесс?
— Долгое время современное искусство Узбекистана оставалось «невидимым» для внешнего мира. Первые попытки представить страну за рубежом были спорадическими. Я считаю, что поворотной точкой стало участие Узбекистана в Венецианской биеннале. Этот проект стал сигналом: мы есть, и у нас есть что сказать.
С тех пор появилось больше институциональных и независимых инициатив, образовательных программ, международных коллабораций. Стало ясно: сцена — это не только художники, но и люди, которые выстраивают связи, продвигают, исследуют. Образ Узбекистана начал формироваться иначе — изнутри, а не через призму внешних ожиданий.

До обретения страной независимости её культурный образ был очень опосредованным, на западе он формировался из традиционных представлений об ориентализме, в советском обществе — из навязанных Узбекистану нарративов.
Будучи частью СССР, Узбекистан сохранял активную творческую среду, которая была невидимой для США и Европы. По мнению директорки Центра современного искусства Сары Раза, практики и взаимодействие сосредотачивались на оси Юг — Юг, между странами этих регионов.
Для правительства поддерживать развитие местного искусства и важно, и выгодно. Участие страны в международных выставках и биеннале развивает её престиж, а ещё привлекает сюда туристов. Особенно это актуально для крупных исторических центров: Хивы, Бухары и Самарканда. Не всегда такая поддержка выгодна самому городу, так, в 2024 году появились сообщения о сносе в Бухаре Спецшколы искусств, которая была недавно отреставрирована и оснащена современным оборудованием.
Делалось это для возведения туристического этно-центра «Бокий Бухоро». Негодование местных жителей, градозащитников и общественных деятелей вызвал снос культурного памятника и школы, где обучаются будущие художники и скульпторы, ради «фасадного» центра, ориентированного на туристов. Образ, который транслирует государство и его инстанции, может не совпадать с формирующимся в среде независимых художников.


Тимур Карпов
основатель галереи 139 Documentary Center, документалист
— Если мы говорим о биеннале или, например, выставке в Лувре, то там показывается очень определённый образ Узбекистана как страны прогрессивной, с богатым визуальным и эстетическим прошлым и настоящим. Если рассматривать это как пиар-проект, который реализуется Фондом развития культуры и искусства, то, на мой взгляд, это то, как наш образ и искусство видят люди там. Увиденное иностранцем с этой подачи на выставках и мероприятиях нечто не ошибочное, но очень выхолощенное.
Безусловно, мотивы и сюжеты этого искусства существуют и реализуются, но не в таком стерильном виде. У зрителя может возникнуть достаточно ошибочное мнение о регионе, его культуре и прошлом, потому что чаще всего такие внешние выставки имеют нулевую критику происходящего. Там нет переосмысления чего-либо, осознавания контекста и ощущения, что все эти мероприятия существуют в вакууме, что это несуществующий, искусственный мир.
Это искусственно созданный образ, служащий определённой цели, в данном случае довольно простой — привлечению туристов и инвестиций, смены имиджа страны на более современный.
В действительности же мы пока не соответствуем тому мифологическому образу, который преподносится за границей.
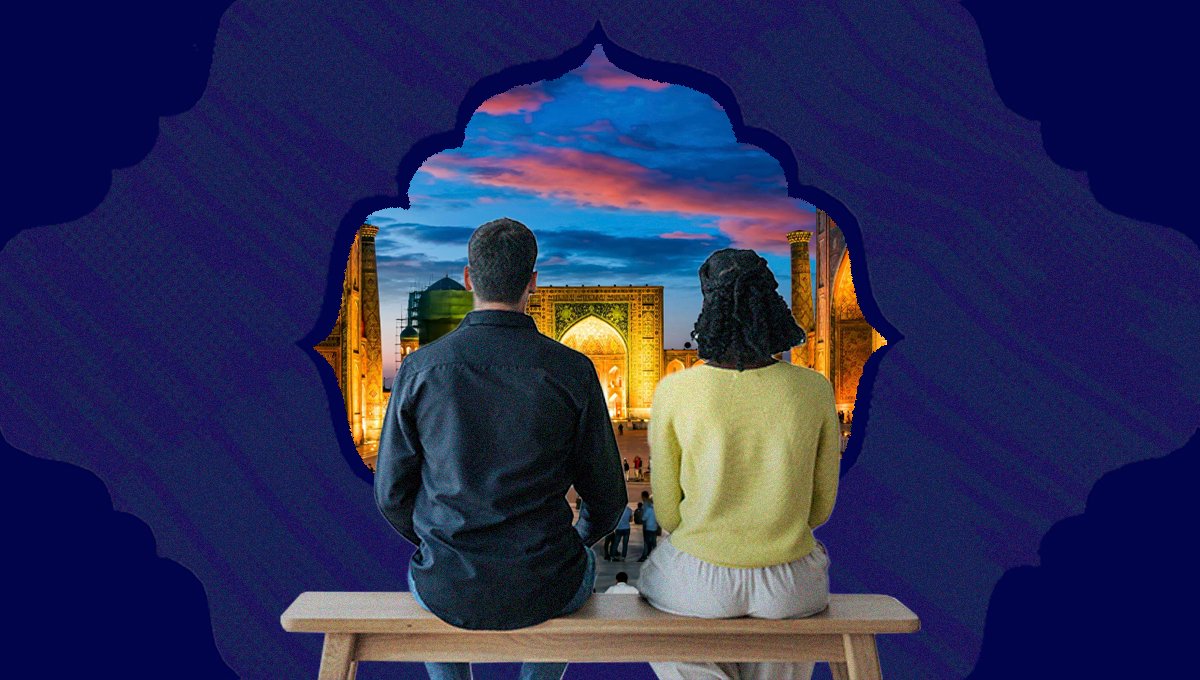
Переосмыслять действительно есть что: Узбекистан претерпел множество трансформаций, его пытались вписать в разные культурные коды, при том что у страны и региона в целом имеется свой. Помимо формирования идентичности и её выражения, существуют художественные течения и тренды, которые не обходили Узбекистан стороной и обретали здесь свою интерпретацию. Едва ли без осмысления этого контекста можно представить миру аутентичное искусство, в противном случае получится «что-то про хлопок».

Алсу Ахметзянова
арт-менеджер, арт-блогер и младшая кураторка Uzbek Design Pavilion на London Design Biennale
— Современное искусство Узбекистана сегодня воспринимается как нечто свежее, живое и ещё не до конца открытое. Но важно понимать, что этот образ складывался не одномоментно, он прошёл через сложные исторические трансформации.
В 1960–70-х годах в Узбекистане формировалась сильная школа модернизма и постимпрессионизма. Это было интеллектуальное современное искусство, в котором художники работали с формой, философией, пространством — это было про взгляд внутрь. Однако с середины 1980-х фокус сместился: начался период экзотизации, навязанной извне. Нас стали репрезентировать через ремесло, хлопок, икат — как безопасную визуальную формулу, «удобную» для восприятия и систематизации внутри советской культурной политики. Это было колониальное искусство, в котором индивидуальность и глубина замещались орнаментальностью и стереотипом.
Сегодня мы живём в эпоху деколониального пересмотра. Художники, дизайнеры, кураторы больше не хотят быть «открыточным Узбекистаном». Вместо этого они поднимают темы истории, архитектуры, тела, памяти, создают новые визуальные языки. Мы переосмысливаем ремесло не как часть туристического маркетинга, а как живую эволюцию культурной памяти. И именно это делает наше искусство сегодня особенно важным — оно не хочет быть декоративным. Оно хочет быть глубоким.
Какие у нынешнего образа переосмысления тематики?
София Сейтхалил, участница фем-коллектива Qizlar: С тематикой сложнее, но если мы говорим про женщин, то чаще это осмысление гендерной идентичности в условиях жизни в Узбекистане и его смыслах: месте, культуре, истории. Так или иначе искусство всегда про рефлексию, про социальный контекст.
Росина Ангалышева, участница фем-коллектива Qizlar: Рефлексия о том, кто они, здесь же появляется не только гендерная тема, но и деколониальность. Когда работаешь на зарубеж, сталкиваешься с ожиданиями аудитории, которой Узбекистан и его культура не знакомы совсем.
Ожидания связаны с восприятием нашего искусства через ориентальность: когда зрителю уже условно надоело привычное и хочется какой-то экзотики, которую и пытаются найти в искусстве культуры, сильно отличающейся от их. Часто художницы неосознанно подстраиваются, поэтому и получается, что Узбекистан — это только про ткань и узоры, цвет и фактуру. Но сейчас от этого тоже отходят.

После участия в Венецианской биеннале Узбекистан впервые принял свою — она началась в Бухаре 5 сентября. Главная цель биеннале «Рецепты для разбитых сердец» — «превратить исторический город в динамичную платформу, где традиции и наследие пересекаются с современным искусством и креативными инновациями». Это большой проект Фонда развития культуры Узбекистана, выставок такого размаха в стране ещё не было.

Тимур Карпов
основатель галереи 139 Documentary Center, документалист
— Государственных программ такого масштаба, как за рубежом, внутри страны не существует. Есть более мелкие, а независимые проекты ещё меньше. Внутренние государственные программы, безусловно, в основном заинтересованы не в осмыслении, рефлексии и так далее, а в «сохранении традиционных ценностей». В независимых проектах по-разному: есть те, которые стараются критически взглянуть на что-то, в том числе на своё прошлое, а есть те, которые поддерживают основную правительственную линию, поэтому полностью независимыми назвать их сложно.
Точки пересечения с государственными культурными структурами, конечно, есть, вся наша работа как независимых авторов — большая точка пересечения. Все мы про нашу родину, про нашу память и наследие. Независимые инициативы в этом плане мало видимы и почти незаметны государству, но с какой-то стороны это выгодно, так как позволяет в безопасном и ограниченном поле существовать и работать.
Как формируется культурный образ Узбекистана сейчас
Хук поговорил с участницами фем-коллектива Qizlar о современном искусстве Узбекистана и его продвижении за рубежом.

Настя Север
фем-активистка, участница фем-коллектива Qizlar
— Мне кажется, наше современное искусство формируют молодые художницы и художники, очень часто это именно художницы: девушки и женщины. Они делают основной пул того, что мы сейчас наблюдаем.
После того как страна обрела независимость, стало появляться больше институций, помимо государственных. Большой вклад в этот процесс сделали галереи 139 DC, Bonum Factum, Zero Line, театр «Ильхом», в котором начали проводиться выставки, и театр заработал в том числе как выставочное пространство.
Туда же относится и открытие Regeneration. Ряд задач стоит перед Фондом культуры, и в определённой степени они выполняются: в Узбекистане появилось две резиденции, при Детской библиотеке существует много арт-программ, обучающих детей искусству, и другие проекты.
Мы стали замечать и появление новых разных художников и художниц, в том числе потому, что им попросту есть где выставляться. Также появилась тенденция выставлять работы именно местных художников и художниц, стало заметно больше работ из Каракалпакстана, областей. Не только в столице открылись новые пространства, но в других городах, например Art Station в Самарканде.
Всё потихоньку начало двигаться. Но пока непонятно, как это будет дальше работать. Есть проблемы, в том числе на уровне законов, например, в области авторского права и интеллектуальной собственности.

Росина Ангалышева, участница фем-коллектива Qizlar: Во всём этом также есть заслуга молодых кураторов и кураторок, которые продвигают своё поколение на разные площадки, в том числе авторок и авторов из областей. Художницы и художники смелее в своих высказываниях и подаче, что бы они ни делали, их голоса уже звучат громче.

Алсу Ахметзянова
арт-менеджер, арт-блогер и младшая кураторка Uzbek Design Pavilion на London Design Biennale
— Какие авторы и криэйторы развивают этот образ и какой вклад делают?
— Этот процесс коллективный. Его формируют художники, кураторы, дизайнеры, исследователи, институции и независимые инициативы. Сегодняшняя сцена Узбекистана — это многоголосье. Кто-то работает с ремеслом, переосмысляя форму и материал. Кто-то — с перформансом, личной историей, телесностью.
Важно, что вокруг этих практик начала складываться и инфраструктура: коллективы, образовательные инициативы, галереи, независимые пространства, медиа и блогеры. Всё это формирует устойчивое поле, в котором художники могут не только создавать, но и быть видимыми. Мы уходим от статуса «экзотики» и становимся полноценными участниками глобального диалога.
Венецианская биеннале: что было представлено в павильоне Узбекистана
София Сейтхалил: Фонд привлёк нас и Азизу, а затем уже мы поделились такой возможностью и участвовали как коллектив, привлекая других важных художниц/ков и всех, кого успели.
Настя Север: Когда мы думали о павильоне, для нас было важно выразить опыт нас как женщин, которые родились и выросли в независимом Узбекистане, показать именно его и не говорить за других. На всех уровнях мы также старались привлекать женщин не только из Узбекистана, но из Центральной Азии в целом. Не везде это получилось, в том числе из-за ограничений в ресурсах и времени.
Павильон строился в формате «иностранцы повсюду», поэтому мы и решили говорить о женщинах как о недопредставленной группе. Также поговорить про опыт миграции: внутренней и внешней, про то, как мы это переживаем и переживали, как это чувствуется в теле и на всех уровнях жизни. Исходя из этого мы делали низовое исследование: беседы с девушками, о чьём опыте знали. Это не обязательно был кто-то из близкого круга. Важный фактор: мы не говорили за всех и понимали, что опыт в одной сфере может быть очень разным.
Этот опыт отзывается во всех аспектах нашей работы: скульптуре, видео, саунде и занавесе, в каждой части. Нам было важно показать женский опыт, но сделать это бережно: не фокусироваться только на страданиях или не уходя в ориентализм.
Процесс был изматывающим, но при этом было очень интересно и глубоко: мы разговаривали, коммуницировали, исследовали, думали.

— Как шла подготовка и что удалось выразить в итоге?
Настя Север: Павильон был оформлен как бэкстейдж театра: после ты выходишь на сцену, где тебе некомфортно от света, это было сделано специально, вся первая часть экспозиции проходится по закулисью.
София Сейтхалил: Вдоль него в хаотичном порядке расположены разные объекты, а после этого пути посетителя ослепляют прожекторы на сцене — из экстремальной невидимости ты становишься экстремально видимым. Подобное происходит с женским опытом: когда мы говорим о мигрантках в основном из стран Глобального Юга, где то, что ты отличаешься, делает тебя слишком видимым либо наоборот.
Невидимость пролегает в юридических моментах, легальной позиции где бы то ни было, уровне защищённости. Видимость же строится на отличии от людей вокруг. Выходящие на сцену чувствовали себя по-разному: кому-то было некомфортно, а кто-то начинал собственные перформансы. Напротив располагались сидячие места, поэтому у перформеров были настоящие зрители. Для нас было особой гордостью, что подходили девушки из Центральной Азии, говоря, что в павильоне почувствовали себя как дома.
Настя Север: Осмыслять проделанную работу достаточно сложно, это был монументальный труд, где нужно было представить целую страну, к ней было очень много внимания.

— Наверняка было и много ожиданий от аудитории здесь, внутри страны
София Сейтхалил: Когда нам поступала неконструктивная критика, которой пытались выбить нас, я знала, так как находилась внутри этого процесса, что человек мало что в этом понимает. Мы сделали лучший и честный вариант того, что могли в тех реалиях, в которых работали.
У некоторых были претензии к использованию вышивки, потому что это слишком «обычно» и его практикуют «все женщины», но это едва ли можно назвать комментарием по существу. От нас иногда ожидали, что мы будем изобретать что-то невиданное, но зачем в целом этим заниматься, когда есть созидательные практики, которыми занимаются женщины и которые нас и их репрезентируют.
Азиза трансформировала эти практики, всё существовало на пересечении, была и вышивка, и технологии искусственного интеллекта.
Иногда нас ругали за то, что экспозиция «нечестная», там недостаточно страдают. Недостаточно показаны проблемы с бюрократией, ксенофобией.
Но зачем всё время показывать только то, как мы страдаем? Мы показывали разное, и про мучения, и про радость, потому что в реальности это тоже работает не в одну сторону. Пытались отойти от бинарного взгляда на нас: это мы, и мы разные. Если это женщины из стран Глобального Юга, почему мы всегда должны страдать?

— Какой была реакция на самой биеннале, как люди взаимодействовали с работой?
Настя Север: Павильон был интерактивным, поэтому всем было прикольно. Там можно было всё трогать, взаимодействовать, на скульптуры можно было залазить. Сам путь прохождения пути от «закулисья» до «сцены» тоже предполагал проживание определённой роли.
Пока идёшь по закулисью, видишь скульптуры, костюмы и установки, собранные из реек — тех, на которые вешается реквизит в театре. Одна из них была сделана как топчан, одна как качели на детской площадке. Были и текстильные костюмы, видеоперформанс и видеоэссе. Занавес создан по пэчворкам, на которых виднелась ташкентская телебашня, например, и другие такие детали, а также сюзане.
Но сюзане реинтерпретированное: это аналоговая вышивка из нескольких регионов страны, а Азиза научила искусственный интеллект трансформировать эти элементы в современные. Если наверху шла традиционная вышивка, то после трансформации это был вышитый кусочек в интерпретированной ИИ форме. Так, из узоров мог появиться трактор или другой образ, их ИИ формировал сам из промтов Азизы. Во всём павильоне был звук, его делали Амалия Айбушева и Фанис: он полон звуков Узбекистана, голосов женщин и девочек.
София Сейтхалил: Участницам я предлагала сделать майндмэп, или карту, которая существует в сознании, но её нельзя найти в реальности. Это географическое пространство, где люди, интерпретируя ощущения, рисуют карты. Они также были представлены. Ещё там были фотографии и разный бэкстейдж работы.
Что происходит на выставках об Узбекистане за рубежом
Знаковые для Узбекистана выставки и креативные проекты были представлены, например, в Лувре и Институте арабского мира в Париже, Галерее Уффици и Венецианском университете Ка’ Фоскари только в прошлом году.
В Ташкенте в сентябре заново откроется Центр современного искусства, а на стадии проектирования находится Государственный художественный музей, разработанный всемирно известным архитектором Тадао Андо. Здание должно стать крупнейшим в Центральной Азии с площадью до 40 тысяч квадратных метров со 100 тысячами предметов и артефактов.

Тимур Карпов
основатель галереи 139 Documentary Center, документалист
— Расскажи о проектах, с которыми выступал на зарубежных конференциях: какими они были и какой был отклик?
— Таких много: и кино, и выставки, показы и лекции. В моей работе я всегда пытался критически осмыслить ту или иную тему: хлопок, политзаключённые, история узбекского кинематографа, всегда стараюсь посмотреть на это всё не с позиции истеблишмента, а всё-таки попытаться понять, переосмыслить и деколонизировать свои знания и мышление, на которое сильно влияют госповестка и госпрограммы.
Когда начинаешь показывать людям вещи, которые существуют на их уровне и созданы «в их размерах», то это не какое-то запредельное качество, потому что все европейские государственные проекты сделаны на высшем уровне с технической точки зрения. Такое качество в любом случае создаёт дистанцию, и аудиторией становятся люди определённого класса.
В моём случае мне никогда не было интересно демонстрировать что-то своё на строго ограниченную аудиторию и пытаться конкретно её впечатлить. Поэтому я всегда демонстрировал свои работы людям среднего и ниже среднего класса, с которыми ты говоришь на одном языке о каких-то общечеловеческих ценностях, смыслах и проблемах. Такого рода работа всегда будет получать отличный отклик, когда зрители будут осознавать, что в другой стране люди переживают похожий опыт и похожие проблемы, и дискурс будет идти в сторону понимания, осмысления и опыта, с которым можно соотноситься, учиться, обмениваться.
В этом случае происходит исследовательский процесс, а не просто демонстрация «достижений народного хозяйства», где нет переосмысления, а есть только констатация определённых фактов в определённом контексте и под определённым углом.

Алсу Ахметзянова
арт-менеджер, арт-блогер и младшая кураторка Uzbek Design Pavilion на London Design Biennale
— Какие выставки и другие мероприятия сейчас наиболее важны для современных художников из Узбекистана за рубежом?
— На международной арене ключевыми остаются крупные события, вроде Venice Biennale, Documenta, Art Basel и Frieze — это площадки, где формируется повестка и устанавливаются связи между художниками, кураторами и институциями. Для художников из Узбекистана участие или даже присутствие в таких контекстах — это не только вопрос видимости, но и доступа к профессиональному сообществу, возможность быть частью глобального разговора.
С особым интересом сейчас ожидается и запуск Art Basel Qatar, первая ярмарка которого пройдёт в феврале 2026 года в Дохе. Наконец, Бухарская биеннале и открытие Центра современного искусства в Ташкенте становятся не только локальными событиями, но и признаками того, что сама инфраструктура современного искусства внутри страны выходит на новый уровень и начинает говорить с миром на равных.
Однако в современном контексте важны не столько сами мероприятия, сколько готовность художников входить в эти пространства. В мире, где есть масса возможностей, важно уметь заявить о себе, вести диалог, искать пути. Прежняя модель, где художник только художник, уже не работает. Сегодня недостаточно просто хорошо работать в мастерской — важно ещё уметь выстраивать свою траекторию. И пока это остаётся самой актуальной задачей: включаться, брать ответственность и быть активным участником процессов, а не сторонним наблюдателем.