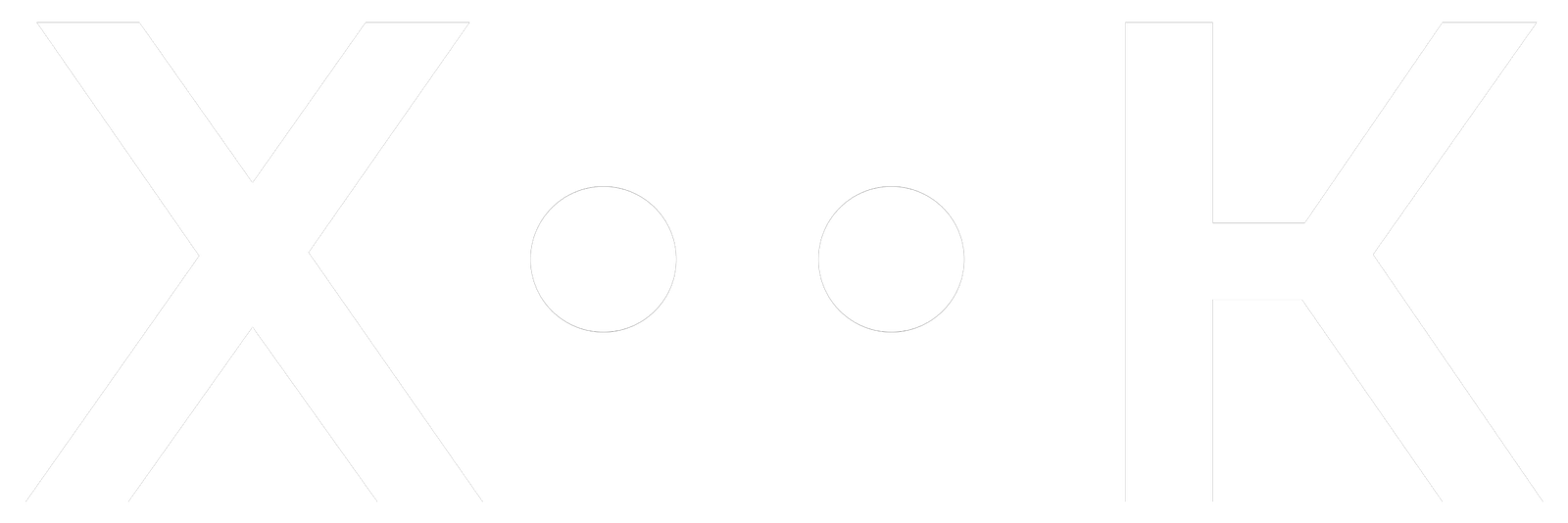Алматы vs Ташкент: города, говорящие архитектурой
Алматы и Ташкент разделяют сотни километров и разные судьбы, но встречаются они на страницах истории почти как соседи, разговаривающие на одном языке — языке архитектуры. Ташкент — город с тысячелетиями за плечами, выросший на перекрёстке торговых путей, где века складывались в кирпичи медресе и глинобитные стены махаллей. Алматы — напротив, сравнительно молодой: его основание в XIX веке как военной крепости «Верный» стало, скорее, политическим актом, чем органическим ростом древнего поселения.
Эта разница в возрасте не просто цифры. Она определила саму ткань архитектуры: там, где в Ташкенте переплетаются восточные и европейские линии, в Алматы изначально господствовала регулярная сетка и «чистый лист» проектирования. В дальнейшем — землетрясения, индустриализация, войны, распад империй — всё это каждый раз заново переписывало облик двух городов, оставляя на фасадах и улицах следы своего времени.
Сравнивать Ташкент и Алматы — значит читать два параллельных текста. Один начинается задолго до прихода Российской империи и несёт в себе густую память Востока, другой рождается внезапно, как строчка, написанная твёрдой рукой колониальной власти.
Дореволюционный период
• Ташкент: две стороны города и водный рубеж
К моменту присоединения к Российской империи, в 1865 году, Ташкент уже жил в ритме древних кварталов. В старой части города узкие улочки текли, как арыки: тесные, переплетённые, ведущие к медресе, мечетям и базарам. Дома возводили из пахсы и сырцового кирпича — материалы, веками проверенные жарким климатом. Толстые стены держали прохладу, внутренние дворы давали тень и покой. Фасады почти не выходили на улицу, жизнь концентрировалась внутри дворов.
Новый Ташкент — европейская часть города, основанная рядом со старой. В отличие от стихийных улочек махаллей новая застройка проектировалась по радиально-центральной схеме: улицы сходились к главному скверу. Эта планировочная логика задавала городу новую ось и новый масштаб.
Архитектура этой части имела колониальный характер: здесь сочетались русские и европейские формы с использованием местных материалов и приёмов. Жилые дома были в основном одно- и двухэтажными, но с толстыми стенами и высокими потолками, чтобы защититься от жары. Фасады украшали элементы эклектики русского и узбекского зодчества. В результате появился особый гибрид: «русский город» в Средней Азии, но со своей пластикой и колоритом.
Старый и новый Ташкент разделяет Анхор — канал, ставший градостроительным и культурным рубежом. Эта граница ощутима до сих пор.
ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ
• Алматы (Верный): город-крепость и сейсмический фактор
На месте будущей Алма-Аты (Мы используем этот топоним в контексте исторической смены названия города. В материале указаны несколько топонимов города — прим. Хук!) в Средние века существовал город Алмату, связанный с Шёлковым путём, но к XIX веку он исчез. В 1854 году здесь была основана крепость Заилийское, вскоре переименованная в Верный. Это был политический шаг: закрепление власти империи в Семиречье.
Планировка с самого начала была прямоугольной: чёткая сетка улиц, кварталы одинакового размера. Первые постройки возводились из камня, но после разрушительных землетрясений 1887 и 1911 годов стали преобладать деревянные дома, более устойчивые в сейсмоопасной зоне. Архитектура тяготела к русским провинциальным образцам: резные наличники, мезонины, купольные храмы, эклектичные общественные здания. Улицы обрамляли арыки и деревья, благодаря чему уже к концу XIX века Верный воспринимался как «зелёный город».
В отличие от Ташкента, где соседствовали два культурных кода, Верный был архитектурно однороден: русский военный и административный центр без многовековой восточной традиции. Более прохладный климат позволял обходиться без массивных глинобитных стен, что делало здания легче и визуально «севернее».
История двух городов разошлась уже в XIX веке — и эта развилка до сих пор читается в их улицах. Так два разных замысла — радиальный и прямоугольный, культурно смешанный и относительно однородный — стали не просто планами XIX века. Они превратились в генетический код архитектуры, определив, как города будут расти, перестраиваться и спорить сами с собой в XX веке и позже.

1920–1950-е: от авангарда к репрезентации
Первые послереволюционные десятилетия в Алма-Ате и Ташкенте начинаются под знаком нового: власть стремится к упорядоченности, массовому жилью, созданию административных центров. На первый взгляд города идут параллельно. Но если всмотреться, то видно: их архитектурные траектории расходятся, и различие это становится особенно заметным к середине века.
• Алма-Ата: конструктивистский старт и строгая дисциплина формы
В 1920–30-е Алма-Ата входит с неожиданным авангардным зарядом. Город получает серию зданий в духе конструктивизма: строгие геометрические объёмы, ленточное остекление, свободные планы. Дом правительства КазССР, спроектированный Гинзбургом, задаёт тон: это рациональная архитектура, обращённая в будущее, но при этом учитывающая и сейсмоопасность региона.
Во второй половине 1930-х и особенно после второй мировой войны акценты меняются. Победа и новые идеологические задачи требуют монументальности и символической репрезентации. В архитектуре всё чаще появляются симметричные фасады, колоннады, карнизы. Но характер Алма-Аты остаётся сдержанным: казахский орнамент вводится деликатно, как интонация — в решётках, поясах, фризах. Основной объём остаётся строгим, «северным», а национальные мотивы лишь оттеняют массу здания, не растворяя её.

• Ташкент: быстрый разворот к классике и восточная программа ампира
В Ташкенте авангардная линия оказалась короткой. Уже к середине 1930-х город быстрее переходит к классике. Здесь формируется канон «национальное по форме, социалистическое по содержанию», и в архитектуре это значит одно: монументальность соединяется с декоративным богатством.
Главный пример — театр имени Алишера Навои. Щусев создаёт монументальную композицию, но внутреннее убранство превращается в энциклопедию узбекских ремёсел: ганч, мрамор, резьба, орнаменты, где каждое фойе отсылает к отдельному региону. Ташкентские здания этих лет легко узнаваемы: арки, купола, узорчатые решётки, которые превращают советский ампир в «витрину Востока».

Материалы и декоративные приёмы
Разница между Алма-Атой и Ташкентом особенно заметна в работе с материалами и декором. В ташкентских постройках 1930–1950-х годов орнамент становится не просто украшением, а частью конструктивного языка. Ганч и каменная резьба превращают интерьеры в целые миры узоров: колонны и арки растворяются в орнаментальном ковре, пространство становится праздничным, «сценическим». Каждое здание словно демонстрирует богатство ремесленных традиций региона и собирает их в общую репрезентативную программу столицы.
Алма-Ата идёт по другому пути. Здесь орнамент не «накрывает» объём, а вплетается в его геометрию. Казахские мотивы подчёркивают строгую тектонику здания, а не заменяют её. Сначала считывается масса, симметрия, колоннада, и лишь затем — узор. В результате национальный код звучит тоньше, как акцент, а не как главная тема.
Масштаб и градостроительный контекст
К 1940–1950-м годам оба города переходят к общей советской эстетике сталинского ампира: симметрия, колоннады, монументальные площади. Но масштаб применения этого стиля различается. В Ташкенте репрезентация становится задачей всего центра. Административные здания, театры, культурные центры формируют единый ансамбль, в котором восточные орнаменты и монументальные формы подчёркивают роль города как политического и культурного центра региона.
Алма-Ата, несмотря на роль столицы Казахской ССР, действует осторожнее. Здесь ампир внедряется выборочно: важные здания получают колоннады и карнизы, но в целом структура города остаётся дисциплинированной, рациональной. Прямоугольная сетка улиц и строгая логика кварталов удерживают архитектуру от чрезмерной декоративности. Монументальность есть, но она не разрастается до уровня тотальной декорации, как в Ташкенте.

Итог периода
К началу 1950-х годов различия уже оформились в устойчивые архитектурные коды. Алма-Ата сохранила связь с авангардной рациональностью и вплела национальные мотивы в детали, не разрушая цельности строгих форм. Ташкент, напротив, превратил ампир в демонстративный синтез классики и восточного орнамента: купола, арки, резные решётки стали не дополнением, а сутью архитектурного образа.
Эти противоположные подходы задали основу для будущего. В Алма-Ате на этой базе легко приживётся модернизм с его любовью к геометрии и чистым объёмам. В Ташкенте же орнаментальная программа естественным образом перейдёт в модернизм 1960–1980-х, где фасады по-прежнему будут играть роль «витрины» традиции.
1960–1980-е: модернизм и позднесоветская архитектура
После 1950-х советская архитектура меняет курс: на смену ампиру приходит модернизм. Новый стиль обещает простоту и функциональность, работу с железобетоном, стеклом и светом. Но в Средней Азии он проявился по-разному: в каждом городе модернизм обрёл собственный характер, сформированный его историей, статусом и средой.
• Ташкент: витрина Востока
Для Ташкента поворот к модернизму совпал с катастрофой — землетрясением 1966 года. Город пришлось фактически перестраивать заново, и именно в этот момент он получил роль «восточной витрины СССР» в Средней Азии. Отсюда масштаб: широкие проспекты, ансамбли площадей, грандиозные общественные комплексы.
Ключевые примеры — метрополитен (1970-е, с мозаиками и тематическими станциями), Дворец дружбы народов (1981), Центральный выставочный зал (1974), гостиница «Узбекистан» (1974), цирк (1969/1976), крытый рынок Чорсу (1983). Эти здания демонстрируют не только декоративное богатство, но и связь с климатом и опытом предков. Так, в Центральном выставочном зале продумана естественная вентиляция и устроена окружная галерея, напоминающая о традиционных приёмах зодчества в жарком регионе. В результате возник особый пласт — модернизм, насыщенный восточными элементами, но осмысленный и в декоративном, и в функциональном плане.
Материалы подчёркивали масштабность замысла: мрамор и гранит, бетон, декоративные решётки — панжара, мозаика и штукатурные орнаменты. Всё это позволяло соединять современность с традицией на уровне не только формы, но и городской среды.

• Алма-Ата: музей модернизма у подножия гор
Алма-Ата развивалась поступательно: без катастрофы-катализатора, но с концентрацией качественного модернистского фонда. В исследованиях Музея современного искусства «Гараж» и в городских гидах Audiala её называют «музеем модернизма под открытым небом»: в городе сохранилось более шестидесяти реперных объектов 1960–1980-х годов.
Ключевые примеры — Дворец Республики (1970), гостиница «Казахстан» (1977), кинотеатр «Арман» (1968), Казахский государственный цирк (1970), Дворец школьников (1983), Арсанские бани (1982), ледовый каток «Медео», а также жилые комплексы вроде «Трёх богатырей» и целая сеть микрорайонов с киноконцертными залами. Гостиница «Казахстан» стала настоящим символом города: строгая башня с противосейсмическим каркасом и орнаментальным «коронным» поясом наверху. Дворец Республики соединяет монументальность площади с лаконичной пластикой фасада.
Особая черта алматинского модернизма — использование ракушечника, пористого известняка из Мангистау. Этот материал широко применялся в отделке фасадов и интерьеров: гостиница «Казахстан», Дворец Республики, многие жилые дома. Его тёплая «губчатая» фактура стала одной из отличительных черт города. Вкупе с мрамором, гранитом и витражами она придавала архитектуре локальный характер и хорошо сочеталась с горным климатом.
Архитектура Алма-Аты оставалась камерной и рациональной. Даже крупные объекты встроены в масштаб сетки, подчёркнутой рельефом. Улицы поднимаются к горам, создавая особый эффект вертикали и панорамы.

Инженерные сооружения как часть модернизма
Сейсмическая и горная специфика Алма-Аты породила целый пласт инженерных решений, которые стали частью архитектурного образа города. Самый яркий пример — противоселевая плотина на реке Медео (1970-е). Это грандиозное гидротехническое сооружение не только защищало город от селевых потоков, но и воспринималось как монумент, вписанный в ландшафт: ступенчатая бетонная стена в горах стала своеобразным памятником инженерной мысли.
К этой же линии относятся и другие объекты: система противоселевых дамб, ирригационные каналы, встроенные в городскую ткань, и характерные для Алматы террасные улицы. Последние возникали там, где город поднимался по склонам к горам. Планировщики закладывали кварталы уступами, следуя рельефу: каждый уровень становился отдельной улицей-террасой, на которой размещались микрорайонные дома, школы и зелёные зоны. Это позволяло сочетать типовую советскую застройку с уникальным ландшафтом, обеспечивая одновременно видовые панорамы, естественное дренирование и сейсмоустойчивость.
Таким образом, в отличие от Ташкента, где «визитной карточкой» модернизма стали культурные комплексы и метро, в Алма-Ате особую роль сыграли именно инженерные решения — они задали архитектуре «героический» оттенок и закрепили образ города как рационального, но поэтичного, встроенного в горный ландшафт.
Масштабы и восприятие
Различие между Алма-Атой и Ташкентом читается и в градостроительном масштабе. В Ташкенте модернизм становится сценой для репрезентации: магистрали и ансамбли рассчитаны на массовые демонстрации, открытые площади и парады. Город стремится к горизонтали и широте, разворачивается в плоскости проспектов и больших пространств. Алма-Ата же воспринимается иначе: её модернизм остаётся более камерным, «встроенным» в рельеф. Здесь архитектура тянется к горам, улицы поднимаются вверх, а восприятие определяется вертикалью и панорамами. Даже крупные здания не ломают этот ритм, а подчёркивают его.
Соперничество столиц
К этому добавлялся и фактор негласного соревнования. В советское время Ташкент и Алма-Ата воспринимались как две главные столицы Средней Азии, и архитектура становилась языком их конкуренции. После землетрясения 1966 года Ташкент получил особые ресурсы и заказ на демонстрацию: первые станции метро в регионе, новые дворцы, площади и музеи должны были подтвердить статус «витрины Советского Востока».
Алма-Ата отвечала своими символами: устремлённой вверх «короной» гостиницы «Казахстан», Дворцом Республики, горно-инженерными сооружениями Медео, где архитектура и инфраструктура образовали единый образ города, умеющего работать с рельефом и сейсмикой. Так формировались два разных регистра представительности: Ташкент показывал силу через масштаб ансамблей и «образцовость» новой столицы Востока, Алма-Ата — через связку монументальных зданий с природой и повседневной городской жизнью.
Итог периода
К 1980-м годам архитектурные траектории закрепились. Алма-Ата стала своего рода собранием модернистских памятников, где рациональная структура и сдержанный декор создают цельный образ. Ташкент же превратился в витрину восточного модернизма, где орнамент и ремесленные мотивы так же важны, как бетон и стекло.
Постсоветский период (1991 – сегодня): городской опыт, среда и новые векторы
После 1991 года Алматы и Ташкент пошли разными дорогами. Но прежде чем говорить о различиях, стоит отметить и то, что их роднит. В обоих городах появляются новые мечети и медресе — исламская архитектура становится заметной частью городской ткани. Развиваются и современные типологии: бизнес-центры, торговые комплексы, крупные жилые массивы. Глобальные процессы — коммерциализация центра, формирование моллов как новых «площадей» — одинаково ощутимы и в Алматы, и в Ташкенте. Это своего рода «фоновая линия» постсоветского развития, которая делает города узнаваемыми в контексте мирового урбанизма.
Однако за этой общей линией скрываются два очень разных сценария. Ташкент, сохраняя статус столицы, концентрируется на масштабных проектах, новых кластерах и магистральной структуре. Алматы, лишившийся политического централизма, ищет идентичность в повседневности — в зелёной инфраструктуре, удобных маршрутах и «человеческом масштабе» улицы.
Зелёная и водная ткань наглядно фиксирует это расхождение. В Алматы арыки и скверы формируют непрерывные прохладные линии, позволяя горожанам перемещаться пешком по тенистым маршрутам. Здесь вода — не декоративная редкость, а часть городской повседневности. В Ташкенте вода чаще выступает точечно: фонтаны, каналы, отдельные парки. Она, скорее, акцент, чем постоянная нить, а движение организовано улицами, где приоритет остаётся за автомобилем.
Отличается и вертикаль. Центральный Алматы сознательно удерживает умеренную этажность, сохраняя виды на горы и ровный ритм фасадов. Новые бизнес-центры и жилые комплексы появляются, но они не ломают масштаба центра. Ташкент же активнее формирует высотные кластеры — Tashkent City, Новый Ташкент. Столица демонстрирует силу через масштаб, создавая «столицы внутри столицы».

Пешеходный слой тоже развивался по-разному. В Алматы последние годы отмечены расширением пешеходных зон, появлением велополос и коротких связей между кварталами. Здесь городская среда тяготеет к удобству ежедневной прогулки. В Ташкенте же пешеходная логика пока подчинена магистральной: широкие улицы и длинные переходы строят опыт, где машина остаётся главным актором.
Даже ночная световая среда обнажает этот контраст. Алматы работает мягкими акцентами: фасады, памятники, бульвары подсвечиваются так, чтобы создавать уют и атмосферу. В Ташкенте же доминирует общее освещение магистралей и больших пространств — архитектурная подсветка используется выборочно, но сама логика города говорит языком широты и яркой сцены.
В «уличном коде» это различие ещё явственнее. Алматы сохраняет богатую фактуру фасадов: тёплые минералы, разнообразие окон, «кастомные» витрины и вывески на первых этажах создают живой фронт, наполненный кафе и магазинчиками. Ташкент демонстрирует больше унификации: ремонты и стандартизированные ПВХ-системы выравнивают облик, а типовые решения стрит-ретейла делают среду более однообразной. Но есть и позитивный эффект — центр стал выглядеть аккуратнее, чем раньше, плановые ремонты снизили уровень «обшарпанности».
Даже такие мелочи, как урны и малые архитектурные формы, показывают различие подходов. В Алматы они встречаются повсеместно, включая внутридворовые проходы. В Ташкенте их концентрация заметнее в центре, а на периферии снижается, что косвенно отражает приоритет: столица работает над репрезентацией главных пространств, но повседневная деталь не всегда доходит до окраин.
Сохранение архитектурного наследия
Судьба наследия в Алма-Ате и Ташкенте во многом определяется их статусом. Ташкент, оставаясь столицей, постоянно подвергался давлению новых проектов и реконструкций. Чтобы подтверждать образ «витрины страны», город раз за разом жертвовал цельностью модернистской ткани. Многие здания 1960–1980-х годов были утрачены, а сохранившиеся нередко перестроены до неузнаваемости: новые облицовки и фасады изменили их первоначальный язык. Символы столицы по-прежнему узнаваемы, но их подлинность ослаблена чередой ремонтов и «осовремениваний».
Алматы, напротив, сохранила больше. Потеряв столичный статус, город избежал волны тотальных сносов и переделок. Благодаря этому здесь дошёл до наших дней целый пласт модернизма, причём зачастую без радикальных реконструкций, которые меняли бы их облик. В результате Алматы сегодня воспринимается как «музей модернизма под открытым небом», где здания читаются цельно, в оригинальном виде.
Сейчас оба города демонстрируют растущий интерес к сохранению наследия, но проявляется он по-разному. В Ташкенте модернизм чаще репрезентируется через выставки, публикации и международные проекты — это часть столичного имиджа. В Алматы работа с наследием ближе к повседневности: локальные сообщества, исследователи и гиды проводят экскурсии, создают городские маршруты, популяризируют «архитектурную ДНК».
Так, статус столицы стал парадоксальным фактором: Ташкент получил ресурсы и внимание, но потерял часть подлинного фонда, тогда как Алматы сохранила больше — не по замыслу, а благодаря тому, что у неё не было острой необходимости переписывать свой облик.
Сейсмика и климат — общая реальность, которая продолжает определять архитектурные решения. Оба города строят в зонах высокой сейсмоактивности: в Алматы это приводит к внимательной работе с рельефом, инженерной инфраструктурой (плотины, террасные улицы), противосейсмическими каркасами зданий. В Ташкенте опыт землетрясения 1966 года закрепил традицию усиленных конструкций и фасадных экранов, которые защищают и от солнца, и от колебаний. В обоих случаях климат диктует архитектурные приёмы: солнцезащита, вентиляция, создание прохлады в уличных пространствах. Но способы решения разные: Алматы вплетает их в зелёную и водную инфраструктуру, Ташкент — в масштаб магистралей и массивы общественных комплексов.
В итоге различие не сводится только к масштабу или стилю. Алматы и Ташкент реагируют на одни и те же вызовы — религиозная архитектура, бизнес-центры, моллы, сейсмические и климатические реалии, — но переводят их на разные «языки». Алматы культивирует мелкий шаг, прохладу и уют прогулки. Ташкент стремится к масштабу, кластерам и демонстрации, где пешеходный слой пока лишь догоняет магистральную логику.
Заключение
Если взглянуть на Ташкент и Алматы сегодня, то различия, заложенные ещё в XIX веке, ощущаются не только в фасадах и планировках — они звучат как два разных городских ритма. Ташкент, переживший землетрясение и не раз перестроенный заново, словно привык мыслить масштабами ансамбля и площади. Он говорит языком сцены: от дворцов культуры до деловых кварталов, от широких проспектов до подсвеченных площадей. В нём всегда слышна интонация демонстрации — столица должна показывать себя, убеждать, впечатлять.
Алматы же ритмически иной. Город вырос у гор, и сама география научила его быть камерным: улицы тянутся вверх, взгляд уходит на хребет, а центр сохраняет невысокий масштаб, где важнее не парадная площадь, а прогулочная тень вдоль арыка. Здесь нет необходимости доказывать величие, и архитектура чаще говорит о повседневности: об удобстве, близости, мелких шагах.
Оба города несут на себе печать сейсмической тревожности, и это сближает их больше, чем кажется. И там, и там архитектура работает не только как форма, но и как защита: от солнца, от толчков земли, от стихий.
Сегодня эти различия становятся особенно выразительными. Ташкент превращается в лабораторию показательных проектов, в город больших жестов и новых «центров внутри столицы». Алматы — в музей повседневного модернизма, где городская ткань раскрывается через детали: витрину, дерево, сквер, вечерний свет.
И в этом ценность их сопоставления. Вместе они показывают две модели развития, две интонации одного времени. И, возможно, именно в этом диалоге — «широкого жеста» Ташкента и «мелкого шага» Алматы — рождается подлинная история архитектуры региона.